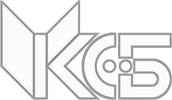Ирина Миляновская. Война без войны
Письмо Златы своей бабушке Людмиле Алексеевне
Дорогая бабуля, здравствуй! У меня всё хорошо, но у меня есть просьба. Нам в школе дали задание: написать реферат о Великой Отечественной войне к 70-летию Победы над фашистской Германией. Нам сказали, что мы должны написать что-то оригинальное, своё. А что у меня может быть «своё», если даже ты, дорогая бабуля, родилась во время войны? Конечно, есть книги, кинофильмы о войне, можно достать старые газеты в Краевой библиотеке, но всё это не своё. Ты понимаешь меня? Может быть, ты, бабуля, можешь вспомнить что-нибудь этакое, которое «своё». Напиши мне, пожалуйста, вспомни, ты ведь что-нибудь в детстве видела и слышала то, что мне надо. Напиши. Очень тебя прошу. От всех наших тебе привет. Целую.
Злата. 15 декабря 2014 г.
Письмо Людмилы Алексеевны своей внучке Злате
Здравствуй, дорогая Златушка. Задала ты мне задачку, нечего сказать. Ты думаешь, я справлюсь? Ну, я попробую. Только не уверена, поможет ли тебе это.
Да, я родилась во время войны, точнее за полтора года до её окончания. Конечно, я не помню военного времени, не помню Дня Победы, но я запомнила послевоенные годы. Я запомнила послевоенную нищету и голод, который длился очень долго, слишком долго. От него не умирали, но становились больными и умственно отсталыми людьми. Это бедствие длилось вплоть до Хрущёвского периода, то есть до конца 50-х годов. Тогда нам стало легче на некоторое время. В продаже появились: мясо, сливочное масло, молоко, сметана, сахар. Обогащённый мозг заработал. Я начала хорошо учиться, вслушиваться и всматриваться во всё, что меня окружало. Меня многое стало интересовать, в том числе и слово «война». Для меня в этом слове звучало нечто торжественное, горделивое, непреклонное, но мне этого было мало. Хотелось вникнуть в самое сокровенное, что таило в себе это слово. Я попыталась расспрашивать у людей, бывших фронтовиков, о войне, но у меня ничего не получалось. В ответ на мои вопросы они опускали глаза, качали головами, тускнели лицами и отказывались говорить на эту тему. Однажды я схитрила: спросила у одного фронтовика, дают ли самые хорошие фильмы о войне истинное представление о ней. Он отрицательно замотал головой и сказал: «Нет». И всё. Больше ничего не сказал.
И всё-таки кое-что я услышала от своего брата. Брат мой Володя был старше меня на девятнадцать лет. Он воевал. Он был артиллеристом, офицером. Иногда он говорил о войне, предавался воспоминаниям не по чьей-либо просьбе, а просто так, по велению души. Вот что он рассказал: «Однажды к нам на передовую заехала немецкая грузовая машина. Шофёр немец перепутал дороги и приехал как раз к советским артиллеристам. Он остановился, вышел из кабины и уставился на солдат такими изумлёнными глазами, что они развеселились. Немца привели к командиру. Через переводчика выяснилось всё: кто он, откуда, куда ехал и зачем. Когда до немца дошло, что он попал в плен так легко и удачно, что его не убьют, что для него с этого момента кончилась война, он обрадовался. Он понял, что у него будет жизнь впереди. А вот солдаты, к которым он заехал по ошибке, не все доживут до победы».
В другой раз брат рассказал мне, что такое землянка «в три наката». Это вовсе не нора, как мне представлялось когда-то. Это большая яма, которую вырывали лопатами. Пол ямы устилали ветками, сверху накрывали брезентом, маскировали опять же ветками. В яму спускались по приставной лестнице.
И ещё он рассказывал о том, что когда кончилась война, их часть находилась в каком-то заграничном санаторном местечке. Солдаты разместились в санаторных корпусах на отдых. И все эти, закалённые в боях, в непогодах, стужах, ветрах, бойцы начали респираторить, кашлять, чихать. Всё, что скопилось за изнуряющие дни, месяцы, годы, всё вылезло наружу. Они расхворались не на шутку и были в большом смущении и недоумении от случившегося. Вот что значит психология. Тяжёлые условия не дают человеку расслабиться, держат его на ногах, а тепличные наоборот - валят в постель.
Нашей маме брат рассказывал в тайне от меня о войне, а что именно, я так и не узнала.
Однажды, когда я начала нахваливать брату фильм «А зори здесь ти-хие», он не на шутку рассердился. Назвал этот фильм глупым враньём. Я была ошеломлена, я считала этот фильм самым лучшим о войне. Оказывается, это не так. Война – это не картинка, война - это то, чем нельзя восхищаться, что нельзя смаковать. Фронтовик этого не принял.
Этот случай напомнил мне один эпизод в повести Достоевского «Бед-ные люди». Когда Макару Девушкину, бедному чиновнику, дали прочесть повесть Н. В. Гоголя «Шинель», то эта повесть возмутила Девушкина, рассердила его не на шутку. Он начисто отверг эту повесть. Подобное однажды случилось и со мной. Как-то раз не очень давно передавали по «Радио России» повесть или роман «Заир». Автора я не помню. Помню только, что речь шла о войне, современной войне на Востоке. Одна французская мадам, героиня романа или повести, поехала на войну, посмотреть на неё. Для неё война – это, по её выражению, шоу. Когда я услышала это, тошно мне стало. «Ну и сволочь же ты, мадам!» - подумала я.
Что, Златушка, ещё мне написать о войне? А вот попробую. Пришлось мне одно время работать в политехническом институте. Там же в то же время работал Николай Филиппович Подольный - человек высокого роста, стройный, седовласый, подвижный. У него была стремительная, летящая походка. Он не ходил, а бегал. Ходить он не умел, а только бегать. Однажды он сказал нам: «В начале войны, когда мы выходили из окружения, нам приходилось делать марш-броски километров по 80 – 100 в день. С той поры я все бегаю и бегаю, и не могу остановиться». А потом Николай Филиппович умер. Когда его привезли к институту для прощания, я стояла на верху высокого крыльца перед главным входом в институт и смотрела вниз на открытый гроб. Николай Филиппович и мертвый был такой же, как при жизни. Он будто приготовился для прыжка. Мне всерьез показалось, что он сейчас выскочит из гроба и убежит куда-нибудь подальше. Но этого не произошло.
Что ещё я могу припомнить? Ах, да! Училась я в школе в средних классах. У нас в школе работала медсестра - женщина лет сорока. Весёлое, улыбчивое создание. У неё была хорошенькая, симпатичная мордашка, вся усеянная тёмными веснушками. Эта женщина, будучи совсем молоденькой девочкой, во время войны работала в прифронтовом госпитале. Однажды в числе раненых к ним попал боец, весь замотанный окровавленными бинтами и тряпками. Он стонал, охал и говорил, что сейчас вот умрёт. «Мы его, - рассказывала нам медсестра, - освободили от бинтов, тряпок, обмыли и не обнаружили на нём ни единой царапины. Очевидно, кого-то, кто был рядом с ним, разорвало снарядом на части. Кровь, мясное крошево обрызгали бойца, и он со страху решил, что это его кровь, что это его разорвало на части. Санитар в спешке не разобрался, что к чему, наспех замотал его чем придётся и отправил в госпиталь. Ну, посмеялись мы над ним и отправили назад на передовую». Видишь, Златушка, на войне бывало очень даже весело.
А однажды, это было 9 мая, у нас перед институтом, где я работала с Николаем Филипповичем, был торжественный парад в честь Дня Победы. В институте была военная кафедра. Наши студенты-парни, выходили из института, имея офицерское звание. Парад в честь Дня Победы выглядел торжественно и убедительно. Играл военный оркестр. Над площадью плыла музыка военных лет. Был яркий, солнечный день, небо было голубое-голубое, чистое-пречистое, но было холодно, очень холодно. На меня накатила вдруг такая тоска, такое горе, что я поспешила уйти с площади. Я плакала так, как будто я всё потеряла: и свою молодость, и жизнь, и здоровье, и всё, что только может потерять человек. Я боялась показать свои слёзы окружающим. Поймут ли они меня? Ведь я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не знало войны. Так чего же я реву, как раненый зверь?
В детстве, я помню, на улицах города было много инвалидов. Особенно много их было возле базара и на самом базаре. Некоторые из них пели, просили подаяния, другие гадали на картах или при помощи обученных морских свинок. Как они были покалечены! Некоторые были совсем без ног. Они сидели на платформах с колёсиками. В руках у них были деревяшки с ручками. Они отталкивались этими деревяшками от земли и катались на своих платформочках туда, куда им надо было катиться. Было много безруких. Встречались молодые люди, но совершенно седые. Однажды мы с мамой зашли по какому-то делу в частный домик. В то время наш город по большей части состоял именно из таких домиков-самостроек с небольшими огородиками. Хозяин этого домика, бывший танкист, во время войны обгорел в танке. Лицо его… Нет, это было не лицо, а маска. Розовато лиловая блестящая тонкая кожица стягивала всё лицо. Глаза видели, но они были защелены двумя прорезями. Такой же был и рот. Лицо без век, без губ, без носа. Вместо ушей отросточки. Но он не унывал, семья, его домашние относились к нему очень хорошо.
Помню руки инвалидов. Кисти нет, а кость, следующая за кистью руки, расщеплена, и культя выглядит, как клешня. Но эта клешня способна была удержать карандаш. Человек мог работать.
А годы шли, и эти несчастные люди начали исчезать с улиц. Куда? Кто в могилу, кто в дом инвалидов. Их становилось всё меньше и меньше. А теперь уже и нет вовсе. Последнего, покалеченного войной человека, я видела в конце 70-х годов прошлого века. У него не было рук, совсем не было. Но он был хорошо ухожен и одет. Он ходил с авоськой за покупками. Бывало, купит что-нибудь, ему его покупку положат в сетку, а сетку наденут на плечо и он уходит.
В юности, после окончания школы, мне пришлось работать в механическом цехе одного крупного завода в нашем городе. У нас в цехе работали двое фронтовиков. Одна из них - женщина, её звали Вера. Она много пила. Лицо её отёчное, одутловатое, тёмное, одушевлялось одним воспоминанием. Она всё время рассказывала нам о том, как они шагали по Берлину в мае 1945 года. Эта женщина исчезла: куда, когда? Не помню и не знаю.
Второй был мужчина лет 45-ти. Саша Овсянников. Он тоже пил, и так пил, что никакого удержу не было. Он пил всякую спиртосодержащую гадость. Зато он был разговорчив. Он рассказал мне о том, как воевал под Курском. Бои были такие, что живые смешались с мёртвыми и мало чем отличались друг от друга. Саша стрелял по врагу, спрятавшись за телом погибшего товарища. А как интересно он писал своей матери в письмах о том, где он находился. Вот, например: «Погода стоит отличная, только со стороны Орла дует сильный ветер». Всё ясно матери, где её сынок воюет. Тебе это непонятно, Златушка? Я поясню. Тогда существовала жёсткая цензура. Нельзя было писать в письмах о том: что, где и как. Цензор зачёркивал. Понятно? Ну, а после боя обычно приезжала полевая кухня. Оставшимся в живых бойцам доставалось всё, что привозили на всех и на тех, кого уже не было в живых. Водка тоже. Там молодой боец Саша Овсянников припал к спиртному на всю жизнь. Цеховое начальство терпело его, стиснув зубы, но недолго. Однажды утром Сашу нашли в цехе мёртвым. Он отравился чем-то, от него несло спиртом. Я пошла к Саше домой. Он жил в бараке. В маленькой комнатушке на двух табуретах стоял гроб, обтянутый красным сатином и обшитый по краям черной лентой. Саша, маленький с почерневшим лицом, лежал тихо, смирно, никого не беспокоил, никого не огорчал. Тут же бегал его трехлетний сынок. Ребенок удивлённо посматривал на взрослых, но, как и его отец, ни к кому не приставал и никого не беспокоил. Жена Саши, крупная женщина в плюшевой чёрной жакетке, была скорее озабочена, чем расстроена. Она нахлебалась горя по самое некуда и теперь не могла даже понять, что её ожидает впереди: хорошее или плохое? Сашу похоронили тихо, незаметно, без всяких почестей, знамён и салютов. Война сожрала его уже после войны и, торжествуя, облизнулась.
В наши дни, уже в 21 веке, война опять упорно ломится в наш дом. И откуда? Скажи мне об этом год назад, ни за что бы не поверила. Такое в страшном сне не увидишь. До того это неправдоподобно. Украина! Я иной раз грешным делом думаю о том, что хорошо сделали мой старший брат Володя и наш писатель Виктор Петрович Астафьев, что не дожили до этих черных дней. Как им воспринять такое! Им, отдавшим лучшие годы своей молодости на освобождение этой самой Украины и Западной Европы от фашистов! Это хуже, чем предательство. Это дебилизм, возведённый в энную степень. Когда я вижу на экране телевизора украинских, западно-европейских и американских лидеров, мне кажется, что человечество сделало шаг назад и не один шаг. А тут ещё одна новость пришла. Уинстон Черчилль, оказывается, склонял американского президента Трумена бомбить ядерными бомбами Москву. Свинья прокуренная! Нас бомбить, когда мы после войны изо всех сил тащили свою страну из разорения, когда мы, недоедая, тратились на создание своего ядерного оружия, вынуждены были тратиться. Как понять такую жестокость!?
Златушка, солнышко моё, война в 1945 году не кончилась. Она до сих пор живёт в нас. Думаешь, в 1945 году после 9 мая к нам пришёл о-кей и вери гуд? Нет, мы так голодали! Помню, как однажды (мне было лет 7-8, я играла во дворе) мимо меня прошла соседка - молодая девушка. Она несла миску, наполненную солёным репчатым луком. От него воняло скверно, она несла миску, как величайшую драгоценность. Мы, ребятишки, жевали вар (это чёрная смола, кажется, её употребляют, когда делают асфальт), лизали соль, ели барашки. Это недоспелые семенные коробочки какого-то кустарника, который тогда рос возле заборов повсюду.
Потом я, много лет спустя, искала это растение в городе, но не нашла его.
Тогда, после войны, многие из нас не знали отцов и почти не общались с матерями. Они всё время были заняты на работе.
А потом юность, милая пора, но помянём мою туманную юность минутой молчания. Она стоит этого. Не все мои подруги вышли замуж. Не за кого было выходить замуж. Они состарились в одиночестве. Я вышла замуж и даже родила сыночка, твоего папу, Златушка, но у меня во все мои молодые годы, да и потом тоже, было такое ощущение, будто я зубами дроблю гранит, пытаясь выжить и пробиться через все невзгоды. Ты только не подумай, Златушка, что мы были отчаянно несчастливые, нет, нет и нет. С начала моей жизни и по сегодняшний день наша страна проделала путь от керосиновой лампы до компьютера. Несмотря на все наши недостатки и перестройки мы достигли многого. У меня лично дух захватывало от наших побед. Было жутко интересно. А где есть интерес, там есть и счастье.
Со стороны Америки и Западной Европы нас пугают санкциями. Кого пугают? Нас, переживших 20 век, всевозможные политические заморочки, перестройку? Они же нас совсем не знают. Вот в чём дело. Нас наши беды научили мыслить по-государственному. После февральского майдана в Киеве мы все, будто взялись за руки, и весной, не дожидаясь никаких санкций, пошли на свои земельные участки, чтобы опять садить, растить, обрабатывать. Нас невозможно взять ни войной, ни измором.
Златушка, я молю Бога о том, чтобы вам, всему вашему поколению не досталось того, что выпало нам. Война – это настолько безнравственное, же-стокое дело, её можно только отрицать. Я надеюсь на наше правительство, нашего президента Путина В. В., на весь наш народ. Дай нам Бог сил, я надеюсь, что мы не сползём опять в кровавую бездну, что мы удержимся сами и удержим, кого сможем, от погибели.
Вот всё, дорогая Златушка, что я помню, знаю и думаю о войне. Пропади она пропадом.
Целую тебя, солнышко моё. До свидания. Твоя бабуля, Людмила Алексеевна.
2015 г.